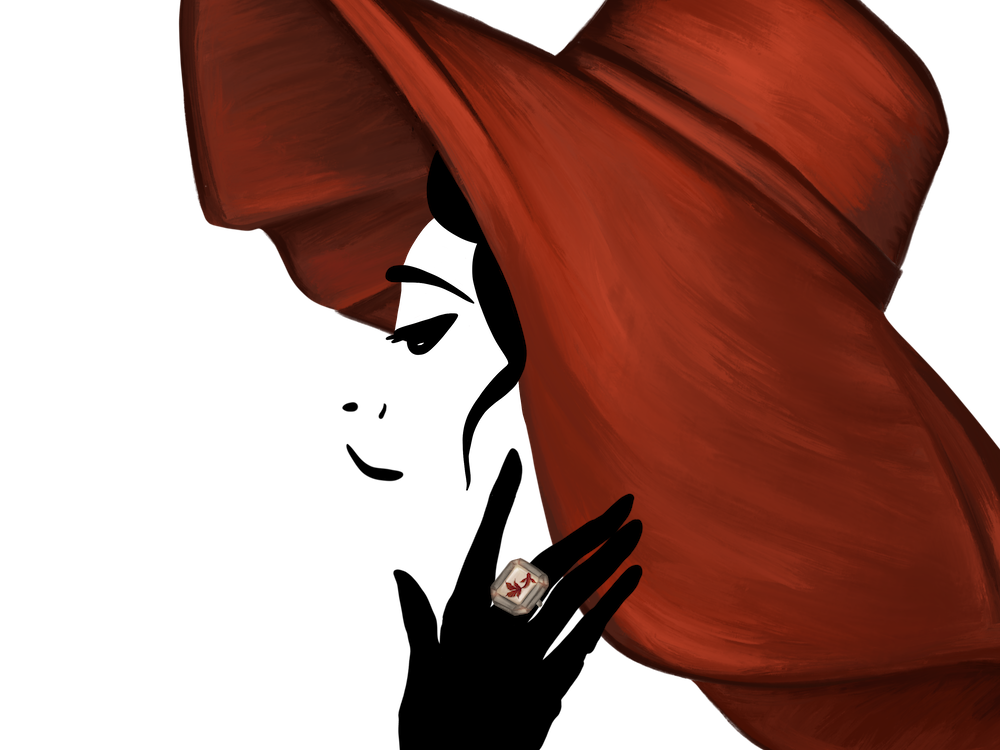Обидно, что Замятина всегда ставят после Оруэлла, если вообще о нем вспоминают. Попросишь кого-нибудь назвать антиутопию про тоталитаризм, и в ответ обязательно услышишь: «1984». Но это так несправедливо! Оруэлл всю душу выжигает напалмом, сил после чтения уже ни на что не остается. А инженер Замятин в темном лабиринте диктатуры проектирует световое окошко надежды. Рано сдавать Замятина в архив, рано, господа! С него все началось и за ним будущее.
Хронология
- Замятин написал «Мы» в 1920 году.
- В 1944 году Глеб Струве, русский литературовед в эмиграции, прислал Оруэллу «Мы» в французском переводе, на что Оруэлл ответил: «Такого рода книги меня очень интересуют, и я даже делаю наброски для подобной книги, которую раньше или позже напишу».
- В 1946 году Оруэлл опубликовал рецензию на «Мы», вот фрагмент: «Насколько я могу судить, это не первоклассная книга, но, конечно, весьма необычная, и удивительно, что ни один английский издатель не проявил достаточно Предприимчивости, чтобы перепечатать ее».
- Тем не менее, «не первоклассная книга» оказала на Оруэлла такое мощное влияние, что спустя несколько лет в «1984» английский писатель почти полностью повторил сюжетную линию «Мы».


Сходства и отличия
Поствоенная проза
Оба писателя работали после войны. Оруэлл – после Второй мировой. На молодость Замятина пришлись две войны – Первая мировая, гражданская, да еще и все революции.
Оптимизм Замятина и пессимизм Оруэлла
Замятин написал «Мы» в возрасте 36 лет. Разумеется, его не публиковали на родине – роман вышел за границей. Удивительно, но после создания такого антисоветского, «идеологически враждебного» и «клеветнического» произведения писатель прожил в СССР еще одиннадцать лет! Евгению был свойственен оптимизм, он все надеялся, что его жизнь в Ленинграде как-то наладится. Писатель решился на эмиграцию только в 1931-м, ему было тогда 47 лет.
Оруэлл написал «1984» в возрасте 45 лет. Смертельно больной, весь во власти тяжелого пессимизма, он жил в сыром доме на продуваемом всеми ветрами шотландском острове Джура. Писатель едва успел завершить работу над романом – через год с небольшим скончался от туберкулеза.
Похожи, как братья
Это, конечно, несущественная деталь, но обратите внимание, как похожи Замятин и Оруэлл – оба сухощавые, симпатичные, с пронзительной искоркой в глазах.


Переплетение английского и советского
Замятина называли «Англичанином» – он много бывал в Великобритании, участвовал в строительстве российских ледоколов на английских верфях («от лопухов и малинников Лебедяни – к грохочущим докам Нью-Кастла»). Евгений хорошо изучил английский язык, стал подтянутым, элегантным и вежливым. «Мы» – это не только про СССР, это во многом аллюзия на машинизированную Англию. При этом англичанин Оруэлл, работая над «1984», думал о Советском Союзе. Хотя действие романа разворачивается в Лондоне.
Д-503 и Уинстон Смит вряд ли нашли бы общий язык
Оба главных героя ведут дневники и дружат с поэтами. Д-503 («Мы») – 32 года, Уинстону («1984») – 39 лет. Они хорошо образованы, насколько это возможно в их обстоятельствах, и принадлежат пусть и не к самой высшей касте, но все же к элите общества. Д-503 – строитель космического корабля, Уинстон – один из лучших чиновников Министерства правды, ему дают самые сложные задания. Но пути героев – как встречные полосы одной дороги. Д-503 – здоровый, физически крепкий, восторженный фанат существующего миропорядка – постепенно разочаровывается в государственном устройстве; Уинстон – изможденный, больной, тайный ненавистник системы – становится восторженным ее фанатом в финале, после пыток и слома сознания.

Наука на службе у тоталитаризма
Во вселенной Замятина наука победила, в мире Оруэлла науки больше не существует.
«Мы» начинается с описания «математически безошибочного счастья» – гениальные изобретения служат человеку (точнее, системе, но это выясняется позже). В этом мире чисто и красиво, потому что математика – это чистая и красивая наука. «Интеграл» готовится к полету в космос, архитекторы строят светлые удобные здания, медицина развита настолько, что самый рядовой врач может провести сложнейшую нейрохирургическую операцию по удалению фантазии.
В то же время в «1984» единственная по-настоящему развитая наука – это психология, состоящая на службе у пропаганды. В остальном все плохо – трущобы, разбитые окна, отвратительная еда, жесткая одежда. «Сегодняшний ученый — это либо гибрид психолога и инквизитора, дотошно исследующий характер мимики, жестов, интонаций и испытывающий действие медикаментов, шоковых процедур, гипноза и пыток в целях извлечения правды из человека; либо это химик, физик, биолог, занятый исключительно такими отраслями своей науки, которые связаны с умерщвлением». Медицина здесь настолько плоха, что не способна вылечить варикозную язву у достаточно высокопоставленного чиновника. «В целом мир сегодня примитивнее, чем пятьдесят лет назад. Развились некоторые отсталые области, созданы разнообразные новые устройства — правда, так или иначе связанные с войной и полицейской слежкой, — но эксперимент и изобретательство в основном отмерли, и разруха, вызванная атомной войной 50-х годов, полностью не ликвидирована».
В этом есть своя логика; чем хуже живут люди, тем больше сил у них уходит на борьбу за существование, тем меньше остается времени на саморазвитие и философские размышления о судьбах мира, а следовательно, тем эффективнее действует пропаганда. «В конечном счете иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве», – доказывает Оруэлл. Он категорически не согласен с «солнечно-стеклянной» концепцией тоталитаризма Замятина, о чем прямо говорит в своей рецензии 1946 года: «Тут не существует ни голода, ни жестокости, ни каких-либо лишений. У верхов нет серьезных причин оставаться на вершине власти, и, хотя в бессмысленности каждый обрел счастье, жизнь стала настолько пустой, что трудно поверить, будто такое общество могло бы существовать». В мире Оруэлла все по-другому: «Это обдуманная политика: держать даже привилегированные слои на грани лишений, ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой».

2 х 2 = ?
Это не может быть совпадением. У Замятина в романе встречаются яркие стихи про таблицу умножения:
«Вечно влюбленные дважды два, Вечно слитые в страстном четыре, Самые жаркие любовники в мире — Неотрывающиеся дважды два…»
У Оруэлла «дважды два» – это важнейший символ, пронизывающий весь роман: «Словно какая-то исполинская сила давила на тебя — проникала в череп, трамбовала мозг, страхом вышибала из тебя твои убеждения, принуждала не верить собственным органам чувств. В конце концов партия объявит, что дважды два — пять, и придется в это верить. Рано или поздно она издаст такой указ, к этому неизбежно ведет логика ее власти. Ее философия молчаливо отрицает не только верность твоих восприятий, но и само существование внешнего мира. Ересь из ересей — здравый смысл…»
Уинстон пишет в дневнике: «Свобода – это возможность сказать, что дважды два – четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует».
Репортаж корреспондента Джорджа Оруэлла
Оба романа чрезвычайно сложно читать. Но по разным причинам. Оруэлла – из-за угнетающей безысходности, охватывающей вас с первых же строк: «В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками». На протяжении всей книги вас душит страх – то холодный, то горячий, но всегда липкий, он остается с вами даже после того, как книга отложена в сторону. Главный герой насквозь больной и несчастный, и вы страдаете каждую секунду вместе с ним – благодаря хирургически точному языку Оруэлла. Короткие фразы, простое и ясное описание окружающей действительности: «Уинстону предстояло одолеть семь маршей; ему шел сороковой год, над щиколоткой у него была варикозная язва: он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо».
Вы не найдете в романе стилистических кружавчиков и словесных рюшей, ничего лишнего. Только безжалостное, прямое изложение фактов, будто взятых из нынешней реальности: «Вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати». Жуткие в своей актуальности лозунги: «Война – это мир», «Свобода – это рабство», «Незнание – сила».
Оруэлл – профессиональный журналист, и роман он написал в репортажном стиле, с включениями «интервью в прямом эфире» – сбивчивых откровений из дневника Уинстона: «Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хороший где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры, где пробует уплыть громадный толстенный мужчина а его преследует вертолет. Сперва мы видим как он по-дельфиньи бултыхается в воде, потом видим его с вертолета через прицел потом он весь продырявлен и море вокруг него розовое и сразу тонет словно через дыры набрал воды. Когда он пошел на дно зрители загоготали».
Однако прямая речь Уинстона занимает совсем немного места в этом «репортаже». В отличие от Замятина, скрупулезно исследующего внутренние переживания главного героя (рваные монологи Д-503 вызывают ассоциации с «Улиссом», созданным Джойсом в те же годы – похоже, идеи модернизма тогда витали в воздухе), Оруэлл больше сосредоточился на описании системы тоталитаризма. Ему очень важно четко описать все детали диктаторского режима, как следует изучить страну, находящуюся в состоянии перманентной войны. Несчастная Океания мучается не меньше Уинстона.
Мне запомнился один фрагмент интервью с Виктором Голышевым, автором классического перевода «1984» на русский язык: «Переводил я где-то год, и раз семь после этого болел простудой: «1984» — отравленная книжка, и эта зараза проникает в тебя… Переводить роман Оруэлла — это чистая отрава. Я перевел целую книжку его эссе — там всё наоборот. Совершенно изумительная проза. У него так все ясно в голове, он нигде не красуется, он нигде не хочет понравиться. Бродский считал, что его эссе лучше, чем «1984». Они действительно замечательные».
Сын священника и пианистки
Замятина читать тоже трудно – как трудно слушать серьезную классическую музыку. Его мать была талантливой пианисткой, Евгений «вырос под роялем» – тихонько лежал там на животе, читая книжку, пока сверху рокотал Бах, переливался Шопен, буйствовал Дебюсси. Вот почему роман Замятина – это музыка в прозе. Ее ритм завораживает, кажется, что буквы вот-вот превратятся в ноты… Этот текст следует читать вслух, чтобы насладиться его виртуозностью.
«Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица… Лучи – понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву… Алые, как кровь, цветы – губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц – в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина… Вот – звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства – и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолектор».
Стоит ли удивляться, что главная героиня романа – пианистка? «Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между… и ослепительные, почти злые зубы… Улыбка – укус, сюда – вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, – ни тени разумной механичности».
Отец Замятина был провинциальным священником. Он сам научил сына читать. Четырехлетний Евгений стоял у окна, глядя на пустую улицу с купающимися в пыли курами, с нетерпением ждал приезда отца, чтобы за обедом торжественно развернуть газету и прочитать вслух так, чтобы слышала вся семья. Потом все вместе за большим столом пили чай. Евгений обожал и уважал отца, хотя и не разделял его религиозных убеждений. Писатель считал себя атеистом – но посмотрите, сколько в его романе библейских ассоциаций.
Новая религия затмевает старую: «Они служили своему нелепому, неведомому Богу – мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву – мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству, – спокойную, обдуманную, разумную жертву».
Но Ева в обличии той самой пианистки по имени I-330 разрушает безмятежную жизнь инженера Д-503. Рай, сверкающий стеклом и солнцем, рассыпается на острые осколки. Главный герой (кораблестроитель, как и сам Замятин – или как библейский Ной), по всем канонам должен быть наказан за преступную гордыню, за вот эту фразу, вылетевшую из уст его возлюбленной: «Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно…» (Разве не вспоминается сразу ребро Адама?)
Любовь сильнее зла?
Оруэлл не верит в любовь. Замятин же убежден, что только любовь победит тоталитаризм. Диаметрально противоположные убеждения писателей объясняются непохожим личным бэкграундом.
Евгений родился в Лебедяни под Липецком, в спокойной любящей семье. Биографы Замятина рассказывают: «Просторный обжитой дом, в котором размещалось множество книг, нот, икон, вещей, пахнущий деревом, полевыми цветами и сухими лечебными травами, с окнами, выходящими в палисадник, создавал чувство защищенности, взаимного доверия и эмоциональной привязанности у членов семьи… В памяти отчетливо сохранилось событие поступления в гимназию. В это время Замятину уже исполнилось восемь лет. Он, впервые облачившись в гимназическую форму, с ранцем за спиной независимо и гордо шагает мимо палисадника перед домом. Не оборачиваясь на окна, точно знает, что этим августовским утром там стоят, смотрят и его провожают — мать, бабушка и сестра».

А вот детство Оруэлла выдалось тяжелым. Имя писателя при рождении – Эрик Блэр. Его отец Ричард был чиновником гражданской службы, долгое время работал в жаркой и нищей Индии (не отсюда ли берет начало каста неприкасаемых пролов в «1984»?), мать Айда – бывшая гувернантка, моложе мужа на 18 лет, возненавидевшая его с первого дня. Кажется, в этой семье несчастливы были все. Как пишут биографы Оруэлла, «родители не обращали особого внимания на воспитание Эрика. Отец по возвращении на родину увлекся садоводством, проводил целые дни на своем участке, где даже пытался вырастить диковинные деревья, черенки которых привез из Индии. Он также играл в гольф, который занимал второе место в его буднях, а за этим следовал покер. Не только дети, но и супруга оставались на самом отдаленном плане… Тем не менее Ричард Блэр на протяжении всей жизни считал себя вправе вмешиваться в дела сына. Он решительно осуждал его «писательские занятия», считая их праздным времяпрепровождением».

Мать стремилась все время проводить вне дома, семья ей была не интересна. Не желая уделить сыну время, Айда тем не менее запрещала ему дружить с соседскими детьми, принадлежавшими к «простым семьям» (и снова вспоминаем пролов из «1984»). Потом Оруэлл писал: «Я думаю, с самого начала мои литературные притязания были замешаны на ощущении изолированности и недооцененности. Я знал, что владею словом и что у меня достаточно силы воли, чтобы смотреть в лицо неприятным фактам, и я чувствовал – это создает некий личный мир, в котором я могу вернуть себе то, что теряю в мире повседневности».
Отношения с женщинами у Замятина и Оруэлла тоже складывались по-разному. Мирный счастливый брак у Евгения – и сплошные ссоры у Оруэлла. Соответственно, и любовные линии в двух романах отличаются.
В «1984» женщина – существо вполне примитивное, охваченное животными инстинктами, не способное сосредоточиться на важных вещах. «Ты бунтовщица ниже пояса», – говорит Уинстон своей возлюбленной Джулии. «Когда он рассуждал о принципах ангсоца, о двоемыслии, об изменчивости прошлого и отрицании объективной действительности, да еще употребляя новоязовские слова, она сразу начинала скучать, смущалась и говорила, что никогда не обращала внимания на такие вещи. Ясно ведь, что все это чепуха, так зачем волноваться? Она знает, когда кричать «ура» и когда улюлюкать, — а больше ничего не требуется. Если он все-таки продолжал говорить на эти темы, она обыкновенно засыпала, чем приводила его в замешательство». В финале Уинстон и Джулия предают друг друга, поскольку их связь – физическая, эмоциональная, но никак не интеллектуальная; разве это настоящая любовь?
В романе «Мы» женщине отведена совсем другая, решающая роль. Джулия просто подтолкнула Уинстона к тому, что он и сам собирался сделать. В то время как роковая пианистка I-330 полностью изменила личность Д-503.
Она выводит своего «Адама» за Зеленую Стену, открывает ему истинный рай на земле: «Из необозримого зеленого океана за Стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев – встал на дыбы – сейчас захлестнет меня, и из человека – тончайшего и тончайшего из механизмов – я превращусь…» И заметьте – в отличие от Джулии, замятинская «Ева» выдержала жестокие пытки, не созналась, не предала, не заговорила.
Однако на мой взгляд, самый важный персонаж у Замятина – это благородная, нежная, сильная О-90. Она способна на бесконечную, жертвенную, безответную любовь; именно ей предстоит стать матерью будущего ребенка Д-503. О-90 – единственная из героев книги, кому удается спастись. Она будет жить в зеленом раю за Стеной, с любовью растить ребенка… Вот она, та надежда, которой нет у Оруэлла.
В «1984» нет никакого тайного общества, Братство Голдстейна – выдумка для выявления инакомыслящих, черный тупик, бороться нельзя и бессмысленно. В то время как в «Мы» действует мощная подпольная организация «Мефи», способная надломить всю систему. И, думаю, победа «Мефи» уже близка – как только ребенок гениального инженера Д-503 подрастет.
Материалы по теме:
- Евгений Замятин «Мы»
- Джордж Оруэлл «1984»
- Юрий Фельштинский «Джордж Оруэлл (Эрик Блэр). Жизнь, труд, время»
- Л. И. Бершедова, Л. П. Набатникова «Семья, супружество и творчество в биографии Е. Замятина» (журнал «Системная психология и социология», 2017, № 3 (23))
- Джордж Оруэлл «Рецензия на «МЫ» Е. И. Замятина» (1946 год)
- Интервью с Виктором Голышевым в журнале Академии Arzamas (21 ноября 2021 года)